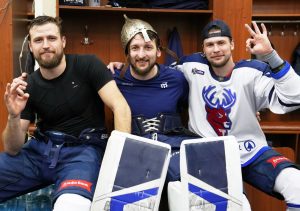Это ? и моя война
Так уж совпало, что родился я 3 июля 1941 года, как раз в тот день, когда Сталин, осознав весь трагизм нашествия, произносил свою речь: «Братья и сестры?». После, уже став взрослым, я долго не мог отделаться от такого мистического совпадения, и все последующее мое восприятие войны и Победы ощущалось на таинственно-генетическом уровне.Потом, много лет спустя, отец, вернувшийся с фронта без обеих ног и не снимавший портрет вождя с красного простенка чуть ли не до самой своей смерти в 1992 году, рассказывал мне, как они слушали те страшные и вместе с тем вдохновляющие слова. И почему-то больше всего ему запомнился глухой, будто от надсады враз осевший голос, сильнее, чем ранее, выдававший грузинский акцент. Хотя всю войну и после он ставил себя выше национальной узости и часто произносил: «Мы, русские люди?»А первое, что я четко и осознанно помню из своего военного детства, ? как отца привезли из госпиталя в декабре 44-го. Более позднего не помню, а то врезалось. После полугода госпиталей, где его спасали от гангрены обеих ног и многочисленными операциями укорачивали их, пока не остановили «огонь», отца отправили с двумя сопровождающими из Воткинска домой поездом до станции Пильна, а оттуда закутанного в тулупы в зимних санях уже поздней буранной декабрьской ночью привезли в село за добрых полсотни верст. Ездила в Пильну на лошадке сестра отца, тетка моя Полина, которая и рассказывала мне потом, как это было. А я ей ? о том, что помнил, и она удивлялась точности моих деталей той метельной ночи.Так и вошла война в мое детское восприятие. Как и чувство постоянного тогдашнего голода. Хотя мать работала учительницей и на ее зарплату что-то можно было купить. А еще рассказывала она, как в 42‑м добросердечный председатель колхоза «Прогресс» украдкой выделил ей пуд семенного ячменя и она его посеяла на усадьбе и в зиму пекла жесткие лепешки из плохо промолотой на ручных жерновах ячменной муки. А когда она ездила к отцу в госпиталь и в качестве гостинцев повезла такие же лепешки, раненые, узнав, что у нее в деревне двое малолетних ребятишек, собрали в обратную дорогу целую котомку невиданных подарков: две буханки настоящего белого хлеба, два фунта кристально-твердого кускового сахара и ? уж совсем чудо! ? огромную банку американской тушенки.Добиралась она до Воткинска и обратно попутными воинскими эшелонами, и солдатики бережно укрывали ее на станциях от бдительных патрулей и охрипших комендантов. Ей было тогда 24 года, а на нее уже столько свалилось бед и трудностей. А еще она всегда вспоминает, как отец, непримиримый коммунист, сказал ей тогда, чтобы она молилась о здоровье хирурга, чудом спасшего ему жизнь. И она молилась, долго в своих рассказах поминая еврейскую фамилию врача.Тем больнее осознавать предательское переосмысление трагедии народной чуть ли не как напрасное проявление массового героизма на полях сражений и в неимоверно тяжелом тылу. И удивляюсь: откуда берутся эти подлые ниспровергатели, которые, оккупировав телеэкраны, глубокомысленно рассуждают: ах, оказывается, Сталин-то не такой уж и гений, а врага мы закидали трупами. И все ему и правящей партии ? в вину. И Жуков-то никакой не полководец Победы, и Генштаб наш ? не чета гитлеровским стратегам. И если бы не штрафбаты да заградотряды?Легко судить-рядить теперешним витиям о том, что бы и как надо было сделать Сталину в канун 22 июня, когда они (и мы все) знаем весь ход истории до наших дней. А поставьте-ка себя на его место в тот трагический год? Где-то я вычитал в мемуарах, что в первые недели войны вождь почему-то появлялся перед ними не с величаво-спокойно дымящейся в руке трубкой, а с папиросой, которая как будто нарочито принижала его до равного с ними. Может, еще и поэтому, как рассказывал отец, голос его 3 июля 1941 года звучал глуше обычного, словно осевший от непрофильтрованного трубкой папиросного дыма.Праздник Победы для нас велик и сейчас, и не затявкать его ни доморощенным, ни заморским шавкам.