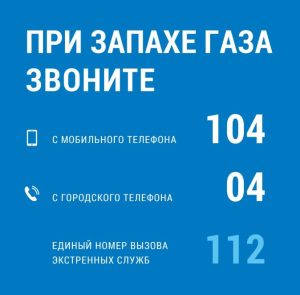Сто лет одиночества
Сто лет назад умер Лев Николаевич Толстой. Умер хмурым ноябрьским утром, на перегонной станции Астапово в Липецкой области, вдали от дома, из которого убежал незадолго до смерти, в точности повторив судьбу и кончину Степана Трофимовича Верховенского, персонажа одного из главных романов Достоевского — «Бесы». Умер, окруженный детьми и сподвижниками. И все равно бесконечно одиноким. Я ни в малейшей степени не собираюсь быть беспристрастным и объективным. По отношению к Толстому это совершенно невозможно. Да и нечестно. Ведь он тоже никогда не был ни беспристрастным, ни объективным. Но в отличие от него я не собираюсь ничего придумывать, не собираюсь изобретать велосипед. Все, что я бы хотел сказать о Толстом, уже сказали за меня другие. Люди куда более умные и знающие. От себя я добавлю лишь несколько слов.6 декабря 1908 года Толстой записал в дневнике: «Люди любят меня за те пустяки — «Война и мир» и т. п., которые им кажутся очень важными». Летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и благодарность за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной». Толстой ответил: «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». Я приписываю значение совсем другим своим книгам (религиозным!)». Толстой сказал правду. Весь читающий мир любил и почитал его за «Войну и мир», а он отрекся от своего раннего творчества, занялся религиозными изысканиями — и обрек себя на тотальное одиночество. Все произошло точь-в-точь с его советами: «Читатель должен помнить, что не только не предосудительно откидывать из Евангелий ненужные места, но, напротив того, предосудительно и безбожно не делать этого, а считать известное число стихов и букв священными». Читатель откинул из всего огромного литературного наследия Толстого то, что ему показалось неважным, — религиозные труды, и запомнил и полюбил то, что неважным представлялось Толстому, — его раннюю литературу, особенно «Войну и мир». Про «Войну и мир» сильнее всего сказал, наверное, Тойн де Фрис: «Больше всего захватывает меня всегда роман «Война и мир». Он неповторим. В 1930‑х годах один голландский писатель старшего поколения говорил: «Если бы Господь Бог захотел написать роман, он не мог бы этого сделать, не взяв за образец «Войну и мир»». А сам Толстой открестился от своего шедевра, как от мелочи, не заслуживающей внимания. Он был велик как художник, и жалок как философ, и противен как религиозный мыслитель. Все его религиозные поиски свелись в итоге к тому, чтобы взять из всех религий мира то, что их объединяет, и отбросить как неправильное и ненужное все остальное. И тогда получится «истинная религия». «Положения этой истинной религии, — писал Толстой, — до такой степени свойственны людям, что как только они сообщены людям, то принимаются ими как что-то давно известное и само собой разумеющееся. Для нас эта истинная религия есть христианство, в тех положениях его, в которых оно сходится не с внешними формами, а с основными положениями брахманизма, конфуцианства, таоизма, еврейства, буддизма, даже магометанства. Точно так же и для исповедующих брахманизм, конфуцианство и др. истинная религия будет та, основные положения которой сходятся с основными положениями всех других больших религий. И положения эти очень просты, понятны и немногосложны. Положения эти в том, что есть Бог, начало всего; что в человеке есть частица этого божественного начала, которую он может уменьшить или увеличить в себе своей жизнью; что для увеличения этого начала человек должен подавлять свои страсти и увеличивать в себе любовь; и что практическое средство достижения этого состоит в том, чтобы поступать с другими так же, как хочешь, чтобы поступали с тобою. Все эти положения общи и брахманизму, и еврейству, и конфуцианству, и таоизму, и буддизму, и христианству, и магометанству». Ну что ж, Толстой сообщил людям «положения» своей «истинной религии». И кроме жалкой и быстро рассеявшейся кучки последователей его никто не принял и не понял. Его не приняли ни справа, ни слева, его отвергли и религиозные ортодоксы, и политические радикалы. «Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения» (В. И. Ленин). Николай Бердяев в начале 1918 года писал так: «Л. Толстой должен быть признан величайшим русским нигилистом, истребителем всех ценностей и святынь, истребителем культуры. Толстой восторжествовал, восторжествовал его анархизм, его непротивленство, его отрицание государства и культуры, его моралистическое требование равенства в нищете и небытии и подчинения мужицкому царству и физическому труду. Но это торжество толстовства оказалось менее кротким и прекраснодушным, чем представлялось Толстому». Не менее категоричным был Иван Ильин: «Так случилось, что учение графа Л. Н. Толстого и его последователей привлекло к себе слабых и простодушных людей и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения, отравляло русскую религиозную и политическую культуру». Смешно, но религиозно-философские изыскания Толстого отвергали даже его ближайшие родственники. Брат Сергей Николаевич: «Левочка несчастный человек. Ведь как хорошо писал когда-то! Думаю, что лучше всех писал. А потом свихнулся. Недаром с самого детства помню его каким-то странным…» Сестра Мария Николаевна: «Ведь Левочка какой человек-то был? Совершенно замечательный! И как интересно писал! А вот теперь, как засел за свои толкования Евангелий, сил никаких нет! Верно, всегда был в нем бес». Сын Андрей Львович: «Если бы я не был сыном его, я бы его повесил!» Куда уж дальше! Да, у Толстого были последователи и почитатели, да, его похороны превратились в общенародные манифестации, а что дальше? Дело, которое он считал главным в жизни, не принял и не подхватил никто. В сущности, он оказался никому не нужным. Его не любили либералы за отвержение Толстым либеральных свобод. Его не любили консерваторы за отвержение государства, семьи и культуры. Его не любили большевики за проповедь «непротивления злу». Его не любили христиане за отрицание Богоматери, Троицы и Христа, да и вообще все верующие за попытку смешать все религии в одну малопонятную невразумительную похлебку. Раннего Толстого читали и любили все. От позднего Толстого все отреклись. Это была словно расплата за его собственные отречения от всего, что мило и дорого человечеству. Он нападал на культуру, на науку, на медицину, на семью, на Церковь, на государство. Он крушил все человеческие устои в попытках найти более прочные и надежные и в результате ничего не нашел и сам оказался в безвоздушном пространстве. Будь иначе, найди он какие-то твердые основания своей жизни, он не метался бы как заведенный из стороны в сторону, не бросил бы дом на пороге смерти, не побежал бы искать чего-то, без чего и жить нельзя. Беда в том, что он все пытался найти и придумать сам и в величии ума своего не мог допустить, что все, что нужно, уже создано и придумано другими и лежит у него под ногами. «Есть разительное несоответствие между агрессивным максимализмом социально-этических обличений и отрицаний Толстого и крайней бедностью его положительного нравственного учения. Вся мораль сводится у него к здравому смыслу и к житейскому благоразумию. «Христос учит нас именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо». И к этому сводится все Евангелие! Здесь нечувствие Толстого становится жутким и «здравый смысл» оборачивается безумством…» (Георгий Флоровский). Когда Толстого предали анафеме, он не стал возражать, он согласился со своим отлучением от Русской Православной Церкви: «То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо». Этим отречением он обрек себя уже не на пожизненное, а на посмертное одиночество. Хотя Церковь и предлагала ему другой выход, в том же синодальном определении: «свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь покаяние в разум истины. Молимся, милосердый Господи, не хотяй смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».